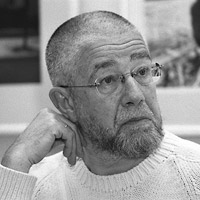Бродский — поэзия прошлого, Рейн — поэзия настоящего, Гандлевский — поэзия будущего
Борис Рыжий сегодня один из самых известных в России поэтов современности. При жизни он участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии, стал лауреатом премий «Антибукер» (1999) и «Северная Пальмира» (2000). Его книги издаются в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, а также за границей (Голландия, Италия, США). Дни поэзии памяти Бориса Рыжего стали значительным событием в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области.
Борис Рыжий сегодня один из самых известных в Росси поэтов современности. При жизни он участвовал в межэдународном фестивале поэтов в Голландии, стал лауреатом премий «Антибукер» (1999) и «Северная Пальмира» (2000). Его книги издаются в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, а также за границей (Голландия, Италия, США). Дни поэзии памяти Бориса Рыжего стали значительным событием в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня поэт Сергей Гандлевский гость нашего издания. Разговор о становлении и судьбе поэта, значении поэтического слова в современной культуре.
Сергей Маркович Гандлевский родился в 1952 году. Окончил филологический факультет МГУ, русское отделение в 1077 году. Стихи пишет с 18 лет. В 70-е годы входил в группу «Московское время» (вместе в А. Цветковым, АюСопровским, Б.Кенжеевым…). Публикуется с конца 80-х. Публикации сначала в зарубежной эмигрантской, затем в российской периодике. Книги стихов: Рассказ (1989), Праздник (1995), Конспект (1999),повесть Трепанация черепа (1996) книга эссе Поэтическая кухня (1998) избранное Порядок слов (2000). Премия Анти-Букер за лучшую поэтическую книгу года (Праздник), Малая Букеровская премия (1996) за Трепанацию черепа, премия «Северная Пальмира» (2000) за Конспект. Член Союза российских писателей. Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, США, Швеции. Работает редактором отдела критики и публицистики в журнале «Иностранная литература».
* * *
Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести -
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!
Есть обычай у русской поэзии
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола.
Дядя в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо.
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само.
Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки -
Я тебя никому не отдам!
Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив.
Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив.
Для чего мне досталась в наследие
Чья-то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?
Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою
На одном бесконечном пиру
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную теребя?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя.
1982
Что-нибудь о тюрьме и разлуке,
Со слезою и пеной у рта.
Кострома ли, Великие Луки -
Но в застолье в чести Воркута.
Это песни о том, как по справке
Сын седым воротился домой.
Пил у Нинки и плакал у Клавки -
Ах ты, Господи Боже ты мой!
Наша станция, как на ладони.
Шепелявит свое водосток.
О разлуке поют на перроне.
Хулиганов везут на восток.
День-деньской колесят по отчизне
Люди, хлеб, стратегический груз.
Что-нибудь о загубленной жизни -
У меня невзыскательный вкус.
Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди.
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди.
Кружит ночь из семейства вороньих.
Расстояния свищут в кулак.
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут - и дышится так,
Будто пасмурным утром проснулся -
Загремели, баланду внесли, -
От дурацких надежд отмахнулся,
И в исподнем ведут, а вдали -
Пруд, покрытый гусиною кожей,
Семафор через силу горит,
Сеет дождь, и небритый прохожий
Сам с собой на ходу говорит.
Сергей Гандлевский
— Сергей Маркович, насколько сегодня поэзия может влиять на умы, настроение людей, формирование их мировоззрения?
— Насколько поэзия может влиять на умы людей, это зависит от самих людей, но мы живем в нечастую пору поэтического ренессанса и надеюсь, что наши времена потомки вспомнят с большой приязнью, потому что одновременно сосуществуют несколько одаренных поэтических поколения: бродско-лосевско-рейновское, следующее — азенберговско-цветковское, я называю имена по алфавиту, каждая плеяда имеет по дюжине одаренных писателей, оперилось и следующее поколение, те, кому сейчас 40 лет и совсем молодое, представителем которого является ваш земляк Борис Рыжий. Он светило среди четвертого поколения.
— Как становятся поэтами? Это тяжкий каждодневный труд, озарение или данный с рождения талант?
Поэт не развивается прямолинейно - из пункта А в пункт Б. Творчество знает топтание на месте, возвращение, кружение, но, в конце концов, внимательный наблюдатель в этой чересполосице различит несколько стадий поступательного движения.
Подросток определенного склада испытывает сильные лирические позывы и пользуется для облегчения души первыми попавшимися под руку словами. Из доброжелательности принято говорить о непосредственности детских опусов, но ничего непосредственного в первых пробах пера, как правило, нет: интонации, обороты - все чужое, видавшее виды. У подавляющей части младопишущих приступ возрастной графомании с молодостью же и проходит. Число претендентов на звание "поэта» заметно убавляется; можно даже сказать, что остаются люди со своеобразным иммунодефицитом: принимающие словесность слишком близко к сердцу. (Помню, много лет назад я шел по берегу Каспийского моря со стороны Мангышлака с приятелем по геологической партии - мы разговаривали о божественном. Он довольно легко согласился с моими доказательствами бытия Божия, но напоследок от души посоветовал "не зацикливаться").
Так вот, на следующий этап переваливают именно "зацикленные" - лет шестнадцати и старше - и рано или поздно находят себе подобных; возникают поэтические содружества. Память о юношеском чудесном взаимопонимании способна скрасить не один черный день в будущем. Занятно, что именно период ученичества и эпигонства нередко вспоминается зрелыми поэтами как время, когда им как-то особенно хорошо - не то что в зрелости - "пелось". Есть в поэзии такая дежурная тема. "Пелось" им, скажем прямо, так себе, куда хуже, чем годы спустя, но лирического восторга и впрямь было хоть отбавляй - "растущий звон, волнение, неведомое миру". Это пора хронического застолья, многословных прогулок, взыскательного чтения. Дружа с живыми, молодой поэт выбирает себе загробную компанию по вкусу, образцы для подражания, крепко привязывается к какому-либо славному литературному течению прошлого, незаметно для себя самого становится литератором. Казалось бы: живи и радуйся. Не тут-то было; осталось, как говорится, начать и кончить.
— Насколько доступна литература для людей малоспособных, но настойчивых в своем желании сделать себе имя?
— Литература просторна, и в ней непросто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами - и в профессиональном, и в житейском смыслах. Получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезет - заслужить премии и звания. И при всем при этом не сказать ни одного живого слова, никого не задеть за живое, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже.
Для массы литераторов ничего по сути дела не меняется со времени отроческих поползновений: только тогда желторотый автор слагал неуклюжие вирши, выхватывая слова из словарного запаса наобум, а возмужавший поэт-профессионал набил руку и пишет крепкие стихи, выбирая с чувством, с толком, с расстановкой лексику, интонации, приемы из общего литературного имущества культуры, вроде как берет на прокат. Но его художественные средства все равно общие, то есть чужие. Такой род деятельности сродни бойкому переводу - личных эмоций на язык готовых литературных формулировок. С утруской, усадкой и прочими утратами, подчас присущими этому ремеслу. Вот незадача: жизнь - своя, а слова - не свои! Настоящему поэту такое положение вещей - нож острый. (Неспроста советский режим, чрезвычайно чувствительный к форме собственности, безошибочно распознал в человеке искусства частника и предусмотрел для него обобществленные средства производства - метод социалистического реализма. Последствия этой эстетической коллективизации, как и установления колхозного строя в деревне, широко известны.) Поэт вроде старообрядца в общественной столовой: тому надо утолить голод, но нельзя пользоваться казенной посудой. Создание персонального заумного языка - один из способов выйти из затруднительного положения, но прибегают к этой уловке единицы, обрекающие себя тем самым на своеобразное одиночное заключение.
Остальным стихотворцам, склонным довольствоваться исконной словарной наличностью, предстоит очередной и не менее суровый, чем в отрочестве, отсев. Большинство пишущих так и будет беззаботно гонять туда-сюда из пустого в порожнее то одну, то другую эстетику, когда-то кем-то созданную исключительно для своих нужд, но давным-давно пошедшую по рукам и потерявшую в мытарствах смысл и породу. Десятки поэтических книжек можно издавать, не указывая на обложке фамилий авторов, потому что сочинители книжек, по существу, и не авторы вовсе, а безвольные медиумы моды, школы, тенденции. Неискушенный читатель этих сочинений имеет дело не с определенными личностями, а с глашатаями общих мест литературы, обоняет культурные поветрия. Один персонаж Льва Толстого с тщанием обставлял квартиру: "... было прелестно, - не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга..." Вот и писательский средний класс - не более, чем плодородный слой, гумус, обеспечивающий культурное брожение и прозябание, поддерживающий среду обитания в жилом виде к приходу настоящего автора. Это, может статься, необходимо и даже полезно в экологии культуры, ибо гарантирует непрерывность процесса и т. д., но какие "ножницы" между уровнем литературных притязаний такого номинального авторства и реальным назначением его бытования в литературе!
— Что такое настоящий поэтический талант, и какой чаще всего бывает судьба талантливого человека?
У меньшинства пишущих, кому самочувствие и самомнение (проще говоря, талант) не позволяют быть отголоском безличной литературной стихии, смириться с участью культурного планктона, появляется аллергия на "литературу" в рутинном смысле слова - его имел в виду Верлен/Пастернак: "Все прочее - литература". Взыскательный мастер начинает исподволь тяготиться искусством, на которое он же смолоду смотрел снизу вверх, требует от себя и собратьев по цеху "почвы и судьбы", "дикого мяса", "сумасшедшего нароста".
Ведь что получается: в нас теплятся какие-то глубоко личные импульсы - назовем их для простоты "духовной жизнью", - нам хочется высказаться, мы открываем рот - а вместо нас и за нас говорит литература. Так в "Двенадцати стульях" участники митинга, посвященного пуску трамвая, желая поделиться своими соображениями по поводу знаменательного события, говорили, как под гипнозом, о Чемберлене, румынских боярах и Муссолини.
Вызволить собственную речь из литературной неволи - вот задача, которую для себя и по-своему решает заново каждый стоящий поэт. И усилия для решения именно этой задачи и создают подлинное искусство. В процессе приручения беспризорного языка автор тратит творческую энергию, которая сохраняется в культуре очень надолго, если не навсегда. Выдыхается все: устаревает проблематика произведения, тиражируются некогда оригинальные приемы, достоянием начинающих становится виртуозная для своего времени художественная техника, позабываются или до неузнаваемости изменяются значения слов, а вот авторский трепет при обращении языка в свою веру остается и ощущается хорошим читателем как наличие стиля. Когда наша общая речь превращается в "индивидуальное кровное наречие". Безусловность и таинственная простота подобной метаморфозы вызывает оторопь восторга. Мне даже чудится при чтении, что книги талантливых писателей набраны каким-то особенным шрифтом.
Обретение собственного голоса - большое и редкое достижение, на котором, вообще-то говоря, можно и остановиться; многие и останавливаются, довольствуясь "небольшой, но ухватистой силой" (Есенин был несправедлив к себе). Считанные единицы продолжают развитие. До этого, последнего, этапа речь шла о естественном отборе в дарвиновском понимании - биологическом конкурсе врожденных способностей. Отныне необходим не только талант - нужно иметь что сказать и верить в насущность своего высказывания, то есть обладать недюжинными человеческими качествами: широким духовным кругозором, непраздным умом, восприимчивостью к опыту, честолюбием высокой пробы. Теперь мишенью досады становится не какая-то там "литература", а собственные былые достижения. Дублировать их значит множить ту же "литературу". Надо думать, это далеко не покойная участь - затяжная тяжба "с самим собой, с самим собой". Личность такого масштаба обречена на эстетические открытия: авторскому стилю придется соответствовать темпу собственно человеческого развития. Иногда кажется, что в данном случае создание шедевра не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности. Конечно, принимать во внимание подобную идеальную фигуру - очень гамбургский счет, но без него мы имеем дело лишь с тщеславным ребячеством или трудотерапией.
Что касается поэта Бориса Рыжего, молодого человека, ушедшего от нас в возрасте 27 лет, то в нем присутствовало моцартовское начало». Эти слова сказал о Есенине Борис Пастернак.
* * *
Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал,
И совершал поступки эти,
Другие, нет, не совершал;
Когда помалкивал и вякал,
Мотал и запасался впрок,
Храбрился, зубоскалил, плакал -
И ничего не уберег;
И вот теперь, когда я умер
И превратился в вещество,
Никто - ни Кьеркегор, ни Бубер -
Не объяснит мне, для чего,
С какой - не растолкуют - стати,
И то сказать, с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...
* * *
"Пидарасы", - сказал Хрущев.
Был я смолоду не готов
Осознать правоту Хрущева,
Но, дожив до своих годов,
Убедился, честное слово.
Суета сует и обман,
Словом, полный анжамбеман.
Сунь два пальца в рот, сочинитель,
Чтоб остались только азы:
Мойдодыр, жи-ши через и,
Потому что система - ниппель.
Впору взять и лечь в лазарет,
Где врачует речь логопед.
Вдруг она и срастется в гипсе
Прибаутки, мол, дул в дуду
Хабибулин в х/б б/у -
Всё б/у. Хрущев не ошибся.
* * *
Есть горожанин на природе.
Он взял неделю за свой счет
И пастерначит в огороде,
И умиротворенья ждет.
Семь дней прилежнее японца
Он созерцает листопад,
И блеск дождя, и бледность солнца,
Застыв с лопатой между гряд.
Люблю разуть глаза и плакать!
Сад в ожидании конца
Стоит в исподнем, бросив в слякоть
Повязку черную с лица.
Слышна дворняжек перепалка.
Ползет букашка по руке.
И не элегия - считалка
Все вертится на языке.
О том, как месяц из тумана
Идет-бредет судить-рядить,
Нож вынимает из кармана
И говорит, кому водить.
Об этом рано говорить.
Об этом говорить не рано.
* * *
Как ангел, проклятый за сдержанность свою,
Как полдень в сентябре - ни холодно, ни жарко,
Таким я делаюсь, на том почти стою,
И радости не рад, и жалости не жалко.
Еще мерещится заката полоса,
Невыразимая, как и при жизни было,
И двух тургеневских подпасков голоса:
- Да не училище - удилище, мудила!
Еще - ах, Боже ты мой - тянет остриё
Вечерний отсвет дня от гамака к сараю;
Вершка не дотянул, и ночь берет свое.
Умру - полюбите, а то я вас не знаю...
Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что:
Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте?
Но полон дом гостей, на вешалке пальто.
Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте.
NN без лифчика и с нею сноб-юнец.
Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова.
И птичка, и жучок, и травка, наконец,
Такая трын-трава - и ничего другого.
Сергей Гандлевский
Сегодня поэт Сергей Гандлевский гость нашего издания. Разговор о становлении и судьбе поэта, значении поэтического слова в современной культуре.
Сергей Маркович Гандлевский родился в 1952 году. Окончил филологический факультет МГУ, русское отделение в 1077 году. Стихи пишет с 18 лет. В 70-е годы входил в группу «Московское время» (вместе в А. Цветковым, АюСопровским, Б.Кенжеевым…). Публикуется с конца 80-х. Публикации сначала в зарубежной эмигрантской, затем в российской периодике. Книги стихов: Рассказ (1989), Праздник (1995), Конспект (1999),повесть Трепанация черепа (1996) книга эссе Поэтическая кухня (1998) избранное Порядок слов (2000). Премия Анти-Букер за лучшую поэтическую книгу года (Праздник), Малая Букеровская премия (1996) за Трепанацию черепа, премия «Северная Пальмира» (2000) за Конспект. Член Союза российских писателей. Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, США, Швеции. Работает редактором отдела критики и публицистики в журнале «Иностранная литература».
в и з и т н а я к а р т о ч к а
* * *
Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести -
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!
Есть обычай у русской поэзии
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола.
Дядя в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо.
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само.
Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки -
Я тебя никому не отдам!
Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив.
Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив.
Для чего мне досталась в наследие
Чья-то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?
Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою
На одном бесконечном пиру
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную теребя?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя.
1982
Что-нибудь о тюрьме и разлуке,
Со слезою и пеной у рта.
Кострома ли, Великие Луки -
Но в застолье в чести Воркута.
Это песни о том, как по справке
Сын седым воротился домой.
Пил у Нинки и плакал у Клавки -
Ах ты, Господи Боже ты мой!
Наша станция, как на ладони.
Шепелявит свое водосток.
О разлуке поют на перроне.
Хулиганов везут на восток.
День-деньской колесят по отчизне
Люди, хлеб, стратегический груз.
Что-нибудь о загубленной жизни -
У меня невзыскательный вкус.
Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди.
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди.
Кружит ночь из семейства вороньих.
Расстояния свищут в кулак.
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут - и дышится так,
Будто пасмурным утром проснулся -
Загремели, баланду внесли, -
От дурацких надежд отмахнулся,
И в исподнем ведут, а вдали -
Пруд, покрытый гусиною кожей,
Семафор через силу горит,
Сеет дождь, и небритый прохожий
Сам с собой на ходу говорит.
Сергей Гандлевский
— Сергей Маркович, насколько сегодня поэзия может влиять на умы, настроение людей, формирование их мировоззрения?
— Насколько поэзия может влиять на умы людей, это зависит от самих людей, но мы живем в нечастую пору поэтического ренессанса и надеюсь, что наши времена потомки вспомнят с большой приязнью, потому что одновременно сосуществуют несколько одаренных поэтических поколения: бродско-лосевско-рейновское, следующее — азенберговско-цветковское, я называю имена по алфавиту, каждая плеяда имеет по дюжине одаренных писателей, оперилось и следующее поколение, те, кому сейчас 40 лет и совсем молодое, представителем которого является ваш земляк Борис Рыжий. Он светило среди четвертого поколения.
— Как становятся поэтами? Это тяжкий каждодневный труд, озарение или данный с рождения талант?
Поэт не развивается прямолинейно - из пункта А в пункт Б. Творчество знает топтание на месте, возвращение, кружение, но, в конце концов, внимательный наблюдатель в этой чересполосице различит несколько стадий поступательного движения.
Подросток определенного склада испытывает сильные лирические позывы и пользуется для облегчения души первыми попавшимися под руку словами. Из доброжелательности принято говорить о непосредственности детских опусов, но ничего непосредственного в первых пробах пера, как правило, нет: интонации, обороты - все чужое, видавшее виды. У подавляющей части младопишущих приступ возрастной графомании с молодостью же и проходит. Число претендентов на звание "поэта» заметно убавляется; можно даже сказать, что остаются люди со своеобразным иммунодефицитом: принимающие словесность слишком близко к сердцу. (Помню, много лет назад я шел по берегу Каспийского моря со стороны Мангышлака с приятелем по геологической партии - мы разговаривали о божественном. Он довольно легко согласился с моими доказательствами бытия Божия, но напоследок от души посоветовал "не зацикливаться").
Так вот, на следующий этап переваливают именно "зацикленные" - лет шестнадцати и старше - и рано или поздно находят себе подобных; возникают поэтические содружества. Память о юношеском чудесном взаимопонимании способна скрасить не один черный день в будущем. Занятно, что именно период ученичества и эпигонства нередко вспоминается зрелыми поэтами как время, когда им как-то особенно хорошо - не то что в зрелости - "пелось". Есть в поэзии такая дежурная тема. "Пелось" им, скажем прямо, так себе, куда хуже, чем годы спустя, но лирического восторга и впрямь было хоть отбавляй - "растущий звон, волнение, неведомое миру". Это пора хронического застолья, многословных прогулок, взыскательного чтения. Дружа с живыми, молодой поэт выбирает себе загробную компанию по вкусу, образцы для подражания, крепко привязывается к какому-либо славному литературному течению прошлого, незаметно для себя самого становится литератором. Казалось бы: живи и радуйся. Не тут-то было; осталось, как говорится, начать и кончить.
— Насколько доступна литература для людей малоспособных, но настойчивых в своем желании сделать себе имя?
— Литература просторна, и в ней непросто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами - и в профессиональном, и в житейском смыслах. Получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезет - заслужить премии и звания. И при всем при этом не сказать ни одного живого слова, никого не задеть за живое, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже.
Для массы литераторов ничего по сути дела не меняется со времени отроческих поползновений: только тогда желторотый автор слагал неуклюжие вирши, выхватывая слова из словарного запаса наобум, а возмужавший поэт-профессионал набил руку и пишет крепкие стихи, выбирая с чувством, с толком, с расстановкой лексику, интонации, приемы из общего литературного имущества культуры, вроде как берет на прокат. Но его художественные средства все равно общие, то есть чужие. Такой род деятельности сродни бойкому переводу - личных эмоций на язык готовых литературных формулировок. С утруской, усадкой и прочими утратами, подчас присущими этому ремеслу. Вот незадача: жизнь - своя, а слова - не свои! Настоящему поэту такое положение вещей - нож острый. (Неспроста советский режим, чрезвычайно чувствительный к форме собственности, безошибочно распознал в человеке искусства частника и предусмотрел для него обобществленные средства производства - метод социалистического реализма. Последствия этой эстетической коллективизации, как и установления колхозного строя в деревне, широко известны.) Поэт вроде старообрядца в общественной столовой: тому надо утолить голод, но нельзя пользоваться казенной посудой. Создание персонального заумного языка - один из способов выйти из затруднительного положения, но прибегают к этой уловке единицы, обрекающие себя тем самым на своеобразное одиночное заключение.
Остальным стихотворцам, склонным довольствоваться исконной словарной наличностью, предстоит очередной и не менее суровый, чем в отрочестве, отсев. Большинство пишущих так и будет беззаботно гонять туда-сюда из пустого в порожнее то одну, то другую эстетику, когда-то кем-то созданную исключительно для своих нужд, но давным-давно пошедшую по рукам и потерявшую в мытарствах смысл и породу. Десятки поэтических книжек можно издавать, не указывая на обложке фамилий авторов, потому что сочинители книжек, по существу, и не авторы вовсе, а безвольные медиумы моды, школы, тенденции. Неискушенный читатель этих сочинений имеет дело не с определенными личностями, а с глашатаями общих мест литературы, обоняет культурные поветрия. Один персонаж Льва Толстого с тщанием обставлял квартиру: "... было прелестно, - не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга..." Вот и писательский средний класс - не более, чем плодородный слой, гумус, обеспечивающий культурное брожение и прозябание, поддерживающий среду обитания в жилом виде к приходу настоящего автора. Это, может статься, необходимо и даже полезно в экологии культуры, ибо гарантирует непрерывность процесса и т. д., но какие "ножницы" между уровнем литературных притязаний такого номинального авторства и реальным назначением его бытования в литературе!
— Что такое настоящий поэтический талант, и какой чаще всего бывает судьба талантливого человека?
У меньшинства пишущих, кому самочувствие и самомнение (проще говоря, талант) не позволяют быть отголоском безличной литературной стихии, смириться с участью культурного планктона, появляется аллергия на "литературу" в рутинном смысле слова - его имел в виду Верлен/Пастернак: "Все прочее - литература". Взыскательный мастер начинает исподволь тяготиться искусством, на которое он же смолоду смотрел снизу вверх, требует от себя и собратьев по цеху "почвы и судьбы", "дикого мяса", "сумасшедшего нароста".
Ведь что получается: в нас теплятся какие-то глубоко личные импульсы - назовем их для простоты "духовной жизнью", - нам хочется высказаться, мы открываем рот - а вместо нас и за нас говорит литература. Так в "Двенадцати стульях" участники митинга, посвященного пуску трамвая, желая поделиться своими соображениями по поводу знаменательного события, говорили, как под гипнозом, о Чемберлене, румынских боярах и Муссолини.
Вызволить собственную речь из литературной неволи - вот задача, которую для себя и по-своему решает заново каждый стоящий поэт. И усилия для решения именно этой задачи и создают подлинное искусство. В процессе приручения беспризорного языка автор тратит творческую энергию, которая сохраняется в культуре очень надолго, если не навсегда. Выдыхается все: устаревает проблематика произведения, тиражируются некогда оригинальные приемы, достоянием начинающих становится виртуозная для своего времени художественная техника, позабываются или до неузнаваемости изменяются значения слов, а вот авторский трепет при обращении языка в свою веру остается и ощущается хорошим читателем как наличие стиля. Когда наша общая речь превращается в "индивидуальное кровное наречие". Безусловность и таинственная простота подобной метаморфозы вызывает оторопь восторга. Мне даже чудится при чтении, что книги талантливых писателей набраны каким-то особенным шрифтом.
Обретение собственного голоса - большое и редкое достижение, на котором, вообще-то говоря, можно и остановиться; многие и останавливаются, довольствуясь "небольшой, но ухватистой силой" (Есенин был несправедлив к себе). Считанные единицы продолжают развитие. До этого, последнего, этапа речь шла о естественном отборе в дарвиновском понимании - биологическом конкурсе врожденных способностей. Отныне необходим не только талант - нужно иметь что сказать и верить в насущность своего высказывания, то есть обладать недюжинными человеческими качествами: широким духовным кругозором, непраздным умом, восприимчивостью к опыту, честолюбием высокой пробы. Теперь мишенью досады становится не какая-то там "литература", а собственные былые достижения. Дублировать их значит множить ту же "литературу". Надо думать, это далеко не покойная участь - затяжная тяжба "с самим собой, с самим собой". Личность такого масштаба обречена на эстетические открытия: авторскому стилю придется соответствовать темпу собственно человеческого развития. Иногда кажется, что в данном случае создание шедевра не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности. Конечно, принимать во внимание подобную идеальную фигуру - очень гамбургский счет, но без него мы имеем дело лишь с тщеславным ребячеством или трудотерапией.
Что касается поэта Бориса Рыжего, молодого человека, ушедшего от нас в возрасте 27 лет, то в нем присутствовало моцартовское начало». Эти слова сказал о Есенине Борис Пастернак.
* * *
Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал,
И совершал поступки эти,
Другие, нет, не совершал;
Когда помалкивал и вякал,
Мотал и запасался впрок,
Храбрился, зубоскалил, плакал -
И ничего не уберег;
И вот теперь, когда я умер
И превратился в вещество,
Никто - ни Кьеркегор, ни Бубер -
Не объяснит мне, для чего,
С какой - не растолкуют - стати,
И то сказать, с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...
* * *
"Пидарасы", - сказал Хрущев.
Был я смолоду не готов
Осознать правоту Хрущева,
Но, дожив до своих годов,
Убедился, честное слово.
Суета сует и обман,
Словом, полный анжамбеман.
Сунь два пальца в рот, сочинитель,
Чтоб остались только азы:
Мойдодыр, жи-ши через и,
Потому что система - ниппель.
Впору взять и лечь в лазарет,
Где врачует речь логопед.
Вдруг она и срастется в гипсе
Прибаутки, мол, дул в дуду
Хабибулин в х/б б/у -
Всё б/у. Хрущев не ошибся.
* * *
Есть горожанин на природе.
Он взял неделю за свой счет
И пастерначит в огороде,
И умиротворенья ждет.
Семь дней прилежнее японца
Он созерцает листопад,
И блеск дождя, и бледность солнца,
Застыв с лопатой между гряд.
Люблю разуть глаза и плакать!
Сад в ожидании конца
Стоит в исподнем, бросив в слякоть
Повязку черную с лица.
Слышна дворняжек перепалка.
Ползет букашка по руке.
И не элегия - считалка
Все вертится на языке.
О том, как месяц из тумана
Идет-бредет судить-рядить,
Нож вынимает из кармана
И говорит, кому водить.
Об этом рано говорить.
Об этом говорить не рано.
* * *
Как ангел, проклятый за сдержанность свою,
Как полдень в сентябре - ни холодно, ни жарко,
Таким я делаюсь, на том почти стою,
И радости не рад, и жалости не жалко.
Еще мерещится заката полоса,
Невыразимая, как и при жизни было,
И двух тургеневских подпасков голоса:
- Да не училище - удилище, мудила!
Еще - ах, Боже ты мой - тянет остриё
Вечерний отсвет дня от гамака к сараю;
Вершка не дотянул, и ночь берет свое.
Умру - полюбите, а то я вас не знаю...
Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что:
Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте?
Но полон дом гостей, на вешалке пальто.
Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте.
NN без лифчика и с нею сноб-юнец.
Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова.
И птичка, и жучок, и травка, наконец,
Такая трын-трава - и ничего другого.
Сергей Гандлевский